Евгения Твардовская, «Хранители Наследия» — об уникальности Томска, проблемах исторического поселения и программе «Дом за рубль»
Евгения Твардовская — шеф-редактор сайта «Хранители Наследия» и журнала «Охраняется государством», который издает Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Эти информационные проекты рассказывают о сохранении исторических городов и архитектурных памятников по всей России, а также освещают опыт отечественной и зарубежной реставрации.
В Томск журналистка приезжала, чтобы принять участие в Международной научно-практической конференции, посвященной инвестициям, градостроительству и технологиям. Тема ее экспертного доклада касалась проектов комплексного развития территорий (КРТ) в исторической среде.
Поговорили с Евгенией о проблемах исторического поселения в Томске, программе «Дом за рубль» и ее московском аналоге, удачных практиках восстановления архитектуры в других городах, а также о том, от кого и зачем нужно защищать исторические здания.
К историческому поселению через противодействие

— Евгения, какую из тем прошедшей в Томске конференции вы бы выделили?
— Сейчас, конечно же, одна из главных тем — это проблема сохранения и развития исторического поселения в Томске и других городах. Уже на пленарном заседании Михаил Посохин сказал, что все чаще звучат высказывания о необходимости корректировки границ, сокращении предмета охраны, ослаблении охранных режимов и прочее. Но Михаил Михайлович четко заявил, что подход по схеме упрощенчества не допустим, что невозможно построить все города заново, что именно историческая архитектура, планировка и системы городских пространств должны стать основой развития в XXI веке. На нашей сессии по архитектуре и градостроительству эта тема была раскрыта подробнее в докладе Марии Николаевны Боковой.
Томск получил статус исторического поселения одним из первых в России, что вполне понятно — городу есть что сохранять: именно в Томске остались целые районы и улицы с деревянной застройкой, есть продолжительная историческая среда, выраженный рельеф и планировка. В этом смысле Томск уникален, потому что во многих других городах со славной историей сохраняются отдельные здания, в лучшем случае городские усадьбы или небольшие фрагменты среды. Ходить там уже некомфортно и просто неинтересно: когда ты видишь один особнячок в окружении новостроек, а потом тебе надо пройти ещё метров двести, чтобы увидеть ещё что-то крошечное историческое, то интерес быстро теряется: нет атмосферы, нет впечатлений, нет желания посещать город.
— Тема исторического поселения для Томска очень важная и продолжительная. Ее историю мы активно освещаем у себя на сайте еще с 2016 года. Следили ли вы за этой ситуацией?
— Да, в 2016 году мы надеялись, что все будет бодро и быстро сделано, но оказалось, что потребовалось привлечение внимания Центрального совета ВООПИК и вынесение этого вопроса на Президентский совет по культуре. То есть, необходимые для работы исторического поселения документы: предмет охраны, регламенты — были приняты только после прямого — фактически — вмешательства главы государства. Что, конечно же, вызывает вопросы: почему система в городе не работает, почему требуется такое ручное управление и лично президент должен следить за историческим поселением в Томске?
В конце концов, все необходимые документы были приняты только в прошлом году. Сейчас мы наблюдаем, как развивается ситуация. Видим какие-то общие вещи, происходящие с застройкой: пожары и запустение, но в Томске, похоже, появляется новая «практика»: многие исторические деревянные дома, которые включены в предмет охраны исторического поселения, к сожалению, принудительно, даже без постановки их жителей в известность, признают аварийными.
Мне показали один такой — дом № 60 на улице Октябрьской. Там три собственника: одна хочет переехать, поэтому она с удовольствием подписала все документы; двое других хотят остаться. Дом абсолютно целый и сохранный. Нам рассказали жители и представитель Томского отделения ВООПИК, как приходили эксперты и смотрели состояние дома, считая, видимо, что люди ничего не понимают и легко внушаемы. Вот эти «эксперты» выдавали продухи из подвала — за дефекты в кирпиче, которые возникли якобы от влаги и сырости. Про любую трещинку в доске они говорили, что «всё, аварийная ситуация». Понятно, что здесь идет лоббирование интересов не сохранения, а расчистки места под строительство и запугивание людей.
— То же самое у нас происходит с домами на улицах Герцена 9, Белинского 17, Красноармейская, 79 и Войкова, 15а. Это самые вопиющие примеры, когда дома в достаточно хорошем состоянии признали аварийными. Там жители тоже выступили против этого решения. В итоге все четыре дома межведомственная комиссия исключила из списка аварийных. Сейчас решается вопрос, как их вернуть обратно в программу капремонта, потому что подобной практики в Томске еще не было.
— Как говорят врачи, возраст — это не диагноз, переводя это на дом, можно сказать, что и аварийность — это не приговор. Существует реставрация, тем более в Томске огромная практика в этом вопросе. Если бы, когда только пара досок прогнила, мы бы сносили здание, то пол-России бы уже давно потеряли. Мы бы не имели сейчас того культурного наследия, которое у нас есть.
И тут, конечно, как показывает практика, многое зависит от политической воли руководства города, от его видения дальнейшего развития. Где фокус развития и цель — там и финансирование. Это важно не только для Томска. Но Томск — уже историческое поселение, от всей площади города оно [составляет] всего лишь 4%. Так неужели эти 4% нет сил у города и области восстановить и выработать систему условий и правил, чтобы здесь было комфортно и туристам, и бизнесменам, и студентам, и жителям? Конечно же, это возможно. Просто надо ранжировать, чьи интересы идут вперёд — либо интересы частных застройщиков, либо интересы города, у которого есть (должна быть) стратегия развития.
— Это требует больших финансовых вложений, которые город не может найти. В бюджете Томска на этот год на восстановление объектов деревянного зодчества хотели снизить строку расходов, но в итоге после обсуждений было выделено на 10 млн рублей больше, то есть, 18 млн рублей. При этом необходимо было, как минимум, около 27 млн рублей.
— С принятием госпрограммы по наследию, после того, как эта тема стала обсуждаться на высшем государственном уровне — инструментарий поддержки инвестиций в эту сферу постоянно расширяется. Например, сейчас банк «Дом.РФ» выдает первый пул кредитов под 4% для пилотных объектов, которые вошли в госпрограмму — это около тысячи объектов. Но, может быть, потом этот опыт будут тиражировать.
В то же время, есть прекрасный опыт экономической и административной поддержки инициатив по сохранению культурного наследия в Нижнем Новгороде, а в Калининграде работает целый фонд по поддержке бизнесменов, которые воссоздают и реставрируют здания. Они получают что-то из бюджета, что-то от банков и постепенно процесс набирает обороты. Это игра «вдолгую» и быстрой отдачи не будет. Хотя, если говорить о камерной деревянной застройке, то тут алгоритм еще прозрачнее и понятнее: привести в порядок дома и люди будут продолжать тут жить. Сохранение образа жизни — признак устойчивого города.
Вопрос в том, как город видит свое будущее и стратегические цели. Я думаю, что должна быть разработана конкретная программа. И в Томске сосредоточено много научных сил, которые могут подключиться и вписать наследие в общие задачи. Зачастую губернаторы, заинтересованные в том или ином проекте, просят главу государства его поддержать и представляют проекты на встрече с президентом. Такой вариант также эффективен.
— Однажды с Томском так и произошло, когда в начале 2000-х тогдашний губернатор Виктор Кресс был в Москве и показывал Путину наше деревянное зодчество. После этого им стали активно заниматься.
— В Томске неплохо работает программа «Дом за рубль», ее результаты — видны... Сейчас важно сохранить историческое поселение и сделать его работоспособным. И тут, мне кажется, очень важно писать и говорить про то, какой опыт уже есть в других городах, в той в той же Казани, Самаре, Плёсе, Суздале, где тоже есть историческое поселение и которые продвинулись дальше по этому пути. Важно посмотреть, как живут эти города и к чему они пришли. Поэтому томскому ВООПИК я предложила провести конференцию по историческим поселениям. Обсудить социальные и экономические аспекты. Вячеслав Глазычев говорил: «Сокращение исторической многослойности города снижает капитализацию среды». Ковровая застройка жилыми высотками — это мина не только под социокультурное будущее города, но и под его экономику, это сокращение налоговой базы и возможностей для бизнеса.
Скажем, в Самаре, конечно, тоже с большим трудом были приняты эти регламенты, сразу стали говорить, что они парализуют строительство и развитие. Обычно такая риторика звучит тогда, когда или не очень понимают условий и напуганы, или же понимают, что это всё «обязательно, но не очень». Когда же при ближайшем рассмотрении оказывается, что правила прописаны во благо, то бизнес перестраивается, начинает работать в заданных координатах. Город не может обслуживать интересы чьей-то нормоприбыли. Мы всё-таки живём в правовом социально-ориентированном государстве в XXI веке.
— Да, именно с этим столкнулся город, когда Минюст утвердил границы исторического поселения в Томске. После этого сначала бизнес выступил за их пересмотр, а потом некоторые архитекторы пытались отменить ограничения на использование материалов в зонах охраны.
— То, что я сейчас слышу, это желание идти по пути наименьшего сопротивления, упрощения, унификации. Но если мы говорим об интересах исторического города, то тут такие подходы не работают. Упрощение и исторический город — это несовместимые вещи. Кому хочется упрощения, лучше не работать в историческом городе, а прекрасно реализовываться за его пределами. То есть, строить действительно креативные высотки, многоквартирные дома — не будучи стесненными регламентами.

Мировой опыт, например, подсказывает, что мы далеко не первая страна, которая обратилась к порайонному сохранению городов. Мы все прекрасно знаем тот же квартал Марэ в Париже, где он четко выделен в охранный сектор, где регламенты прописаны в многотомниках — что можно делать, а что нельзя. Сами архитекторы соблюдают правила строительства в этом районе и правила его сохранения, потому что они в этом чувствуют потенциал и ресурс. И на самом деле другого пути работы с историческим городом, кроме как делать его постоянную диагностику и делать правильные регламенты, соблюдать их, других вариантов нет. Если мы будем сносить и строить, то исторического города не останется. Другой вопрос, что у самих архитекторов должна быть определённая квалификация, насмотренность, кругозор, умение и профессиональные способности для этого.
Другой пример уже из российской практики — Суздаль, Плес, Казань, где тоже много частных небольших домов. Там они сделали типовые проекты застройки. И в Самаре та же самая ситуация. Когда человек хочет там что-то поменять, он приходит, ему дают альбомы, из которых он может выбрать образцы того, что можно делать. Когда четко прописаны правила, наоборот, работать гораздо легче.
— Как вы считаете, почему одним городам удается преодолеть противоречие между развитием и сохранением, а другим нет?
— Быстрее всего двигается дело там, где есть политическая воля и поддержка сверху. В Саратове и области — вмешался Вячеслав Володин, это его избирательный округ. В Самаре — активно наследием занимался Александр Хинштейн и не дал «спустить на тормозах» историческое поселение. Интересно, что темой исторической застройки Александр Хинштейн заинтересовался после того, как начал восстанавливать дома своих предков в Самаре, потом вышел на общественников, оценил их усилия. Очень часто в пример работы с наследием ставят Татарстан. И там — Раис республики Рустам Минниханов педантично курирует все процессы и имеет специального помощника по вопросам культурного наследия — Олесю Балтусову, журналистку и активистку, которая активно вместе с ВООПИКом защищала историческую Казань в 2000-е.
Для чего нужны «Хранители Наследия»?

— В прошлом году журналу «Охраняется государством» и сайту «Хранители наследия» исполнилось уже 10 лет. Как началась история этих проектов?
— Сайт «Хранители Наследия» — это инициатива Константина Михайлова, известного градозащитника, журналиста, краеведа и писателя. Он всегда мечтал сделать СМИ, которое было бы посвящено проблемам наследия, которые по сути своей — мультидисциплинарны. Это и проблемы экономики, и культуры, и социальные вопросы — можно копать бесконечно. В 2014 году у него появилась возможность создать интернет-портал «Хранители Наследия». Мы делаем его в плотном взаимодействии с региональными отделениями ВООПИКа, активистами, а также всегда поддерживаем коммуникацию с региональными органами охраны наследия. Мы стараемся показывать абсолютно разные точки зрения.
Что касается журнала — это более официальное издание, его целевая аудитория в основном, конечно, экспертное профессиональное сообщество, органы госохраны, которые работают по всей стране, в каждом регионе. Журнал распространяется бесплатно, он есть в Москве — в Музее архитектуры, в офисе АУИПИК и во Всероссийском обществе охраны памятников. Тираж — 2500 экземпляров. Журнал выходит раз в три месяца, а сайт — это ежедневный рупор, он, конечно, гораздо более репортажный.
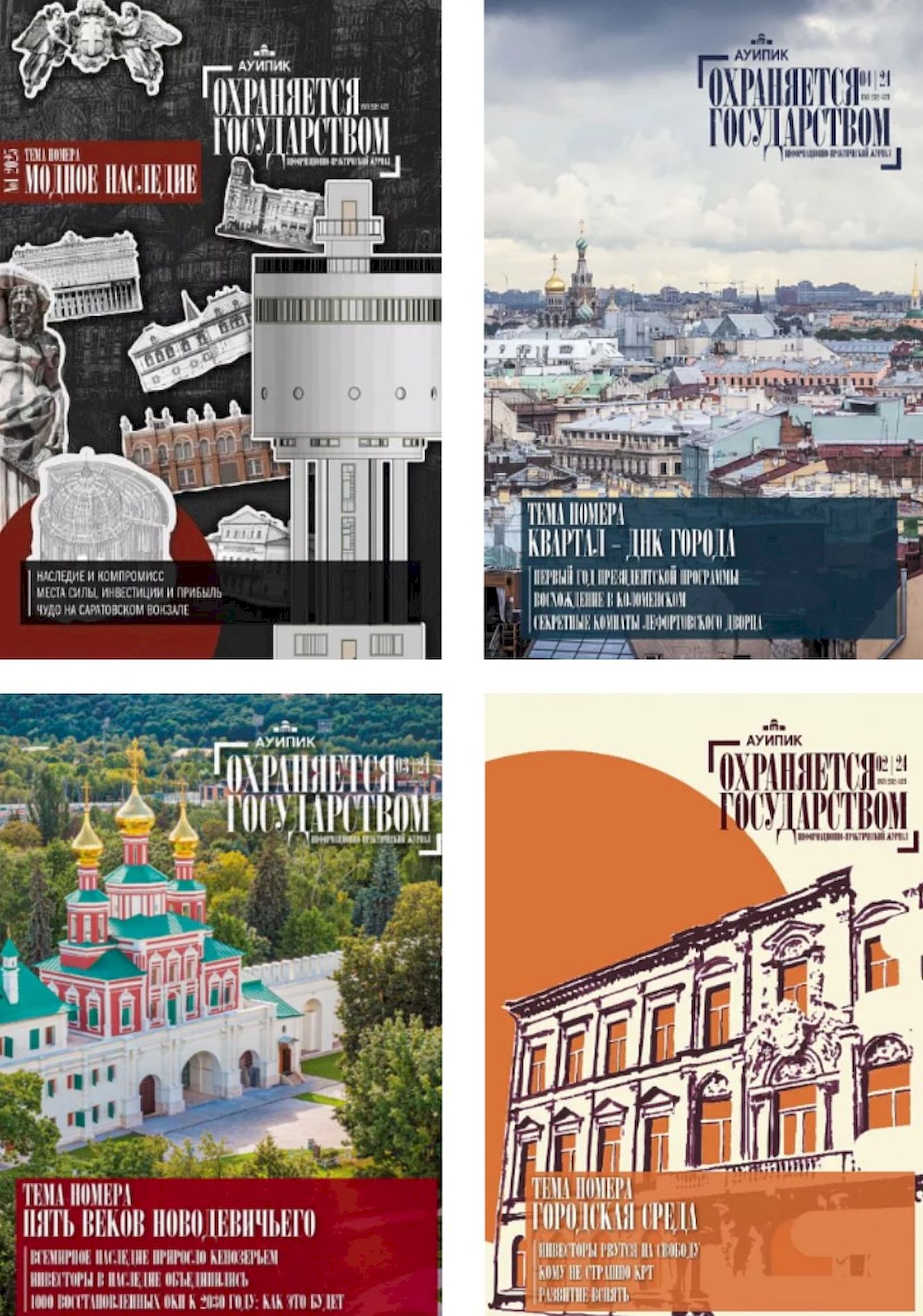
Наши публикации, я считаю, имеют практический эффект. Рядовые горожане или волонтёрские инициативы нередко просят нас сделать материалы — с тем, чтобы о них узнали, чтобы к ним привлечь внимание. В конфликтных ситуациях — мы берём комментарии у органов исполнительной власти, чтобы понять их точку зрения. Конечно, много внимания уделяем нормотворчеству: сейчас очень активны процессы гармонизации нашего профильного закона о наследии (ФЗ-73) и ГрадКодекса, выносится много законодательных инициатив. Все это, конечно, работает не сразу и носит накопительный эффект. Мы буквально пишем летопись того, как живет историческое наследие и люди сегодня, таким образом факты и имена сохраняются в коллективной памяти.
— Какие темы сейчас особенно актуальны для вас?
— В последнее время мы все чаще пишем о волонтерских инициативах. Я отмечаю для себя, что вот уже года три-четыре как идет очень мощная волна волонтерства. Люди, видимо, уже устали просто смотреть и ждать, что кто-то придёт и что-то изменит. Они по возможности, берут дома и восстанавливают их, кто-то проводит фестивали, как «Том Сойер Фест». То, что это очень поддерживается и горожанами, и грантами, показывает, что проблема [сохранения] актуальна и понимаема. Мы тоже про это стараемся писать и пропагандировать опыт. Очень часто мы получаем «сигналы с мест», потому что не во всех регионах можно свободно писать о проблемах в части сохранения объектов культурного наследия. Эта тема нередко намеренно даже политизируется.
Сейчас у нас самые «горячие» темы — это новая редакция положения о зонах охраны, которая вызвала сильный резонанс. Регулярно стала возникать тема сохранения советского модернизма, особенно последнее время в Москве — это разговоры о сносе Цирка на Вернадского и здания СЭВ. Ну и с приближением 9 Мая много ситуаций с памятными военными местами и объектами. Неожиданно оказывается, что все по-разному оценивают их значимость и то, что можно, а что нельзя там делать. Скажем, в Нижнем Новгороде на знаменитой Чкаловской лестнице, памятнике победы в Сталинградской битве — провели недавно чемпионат мира по айс-кроссу, и вся лестница была в рекламе букмекерской конторы, которая является основным спонсором мероприятия. Сама по себе картинка сложилась унизительная, а еще важно напомнить, что лестница — это вообще-то, памятник, который только недавно с горем пополам за какие-то многие миллионы отреставрировали. Несколько лет назад склон там буквально сполз. Орган госохраны наследия в самый последний момент был поставлен в известность о соревнованиях и о том, что на лестнице соорудят ледовую трассу. Интересно, что экспертиза о том, что на памятнике можно что-то проводить ещё не была утверждена, а стройка уже во всю шла.
— При этом в Нижнем Новгороде, насколько нам известно, активно работают с архитектурным наследием. Уже почти шесть лет там реализуется проект «Заповедные кварталы», занимающийся восстановлением целого района с деревянными домами. Что, на ваш взгляд, позволило им добиться неплохих результатов в реставрации?
— Да, это один из ведущих проектов, уникальный опыт Нижнего Новгорода в организации именно взаимодействия общественности, коммерческих структур и государства. Для этого специально было создано АНО «АСИРИС» — Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды, которое объединило эти три силы. Но при том, что Нижний Новгород года три был у нас флагманом в плане новых инструментов по сохранению наследия, в последнее время мы видим, что всё равно постепенно происходит лоббизм — строить быстрее, выше, сильнее… Сейчас там развивается несколько проектов КРТ в историческом центре, застраивают Благовещенскую набережную с проектом высоток больше чем в 100 метров, вот двусмысленная ситуация с Чкаловской лестницей возникла и прочее. Мы очень опасаемся, что все достижения Нижнего Новгорода могут быть снивелированы.
— Когда вы пишете об опыте других городов, принимают ли участие в подготовке ваших материалов региональные авторы — градозащитники и краеведы?
— По-разному бывает: иногда мы получаем хорошо сформированные письма, когда люди сами провели всю документальную работу и написали прекрасный текст. В этом случае мы публикуем письма как журналистский материал, а также просто подсказываем, что можно сделать еще. В каких-то случаях сами погружаемся в тему, есть такие темы, которые сами ведем много лет. Например, тема развития территории вокруг храма Николы Мокрого XVII века в буферной зоне ЮНЕСКО в Ярославле. Все десять лет работы нашего сайта там меняются регламенты, а застройщики упорно идут к цели возведения современных домов. Пока ЮНЕСКО их не пропускает, но понятно, что все это время территория и памятники вокруг деградируют.

Есть и оперативные истории, в которые мы включаемся. Например, в этом году из Астрахани мы получили сигнал о том, что там отпескоструили несколько исторических домов в центре, что подается прессой как достижения, мол теперь чистенькие памятники стоят. Но никто не говорит про то, что вообще-то памятникам нанесен вред, теперь поверхность стен будет втягивать влагу вовнутрь, а здания — разрушаться.
Мы взаимодействуем также и с органами госохраны, и с инвесторами. С разных сторон стараемся взглянуть на ситуации, но всё равно у нас, как у журналистов, есть, конечно, своя позиция, которую мы транслируем.
— И рассказываете вы не только о российском опыте сохранения?
— Да, есть материалы и о зарубежных практиках. Сейчас поменьше, но на определенном этапе на Международный культурный форум в Санкт-Петербурге и другие симпозиумы активно приезжали зарубежные специалисты, в том числе из Франции, Великобритании, США, Италии. Мы старались поговорить с каждым, брали многочисленные интервью, расспрашивали, что и как происходит в их странах, какие методы используются, какие ошибки были и как нам их избежать.
— Было ли такое, что вы написали о каком-то интересном опыте, о нем прочитали специалисты из других городов и применили у себя?
— «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся»... Возможно, где-то наши публикации сыграли и такую информационную роль. Но еще больше радует, когда удается остановить откровенно вандальные проекты, зачастую противоречащие здравому смыслу.
Например, недавно в Смоленске была совершенно чудовищная история, связанная, опять же, с 80-летием Победы. Там есть территория лагеря бывших советских военнопленных — ДУЛАГ. То есть, мемориальная часть, а вокруг город уже вплотную подошел к этому месту. И вот стало известно, что есть проект КРТ, по которому решили развивать территорию и построить высотки там, где фактически стояли газовые камеры, виселицы и бараки для смертников. Это была сердцевина фашистской машины для убийства, и этот факт никого абсолютно не смущал. Мне, конечно, интересно, кто те люди, которые хотят жить с видом на кладбище и мемориал, и повесят ли на эти высотках табличку, что здесь были убиты три тысячи человек? И это уже второй заход застройщиков на данную территорию.
В общем, только после нашей публикации что-то начало меняться, инцидент попал в центральную прессу, и губернатор начал говорить о том, что они будут искать компромисс. Но какой тут может быть компромисс, мне не очень понятно.
От рубля за метр к дому за рубль

— Становился ли Томск героем ваших материалов?
— Конечно, мы очень активно писали про Томск, про историческое поселение, про реализацию программы «Дом за рубль», также делали развернутое интервью с Еленой Перетягиной, руководителем Комитета по охране наследия Томской области.
— В Москве же тоже есть подобная программа реставрации старых домов?
— Да, в Москве она и начиналась, из столицы распространилась по стране. У нас просто она называется немного по-другому «Рубль за метр». Программа хороша для небольших домов, и Томск здесь оказался лидером. У вас, по-моему, порядка 20 домов уже восстановлено. Томский опыт считается хорошим.
— Насколько успешно в Москве работает эта программа и какие еще есть программы поддержки инвестиций в наследие?
— Москва — это сложный город. Если говорить об общественных организациях, то у нас нет московского городского отделения ВООПИК, потому что считается, что у нас работает Центральный совет, куда могут обратиться все. Но у нас есть «Архнадзор» — это общественная организация, работающая на волонтерских началах с 2009 года, именно она положила начало волонтерству и организациям по защите наследия по всей стране. Но диалог между общественностью Москвы и официальными структурами — практически сведен к нулю. Общественный совет по наследию Москвы, образованный в 2017 году, собирался один раз.
Одна из немногих льготных программ у нас — это «Рубль за метр», но когда говорят о ее эффективности, отмечают, что за период 2012–2024 гг. в нее вошло порядка 65 зданий, что для Москвы — совсем немного, учитывая возможности столичного бизнес-сообщества.
Мы редакцией нашего сайта подробно разговаривали с инвесторами, вступившими в программу. Очевидно, в ней есть ряд противоречий и недостатков. Насколько я знаю, многие даже потом избавляются от этих домов, приведя в порядок, конечно, но все же…
2. Жилой дом Наумовых-Волконских, начало XIX в.;
3. Жилой дом купца Николая Баулина, XIX в.
— Как используются после восстановления дома в Москве — это предоставление площадей бизнесу или жилое назначение?
— Зависит от того, какая исходная документация, какой вид разрешенного использования этого здания и прочее. Это изначально должно оговариваться, понятно, что бизнесмен понимает, для чего приобретает то или иное здание. Но есть и спонтанные эмоциональные покупки. Мы как раз столкнулись с такой ситуацией. Деревянный допожарный Дом Сытина (№ 5, стр. 5) в Сытинском переулке приобрел бизнесмен, который сказал: «Я его купил, потому что сюда наша учительница водила класс. Я помню его с детства, но когда я увидел, в каком дом состоянии, ужаснулся». Сейчас там что-то типа дома приемов.
На Госпитальном валу в Москве также по программе льготного кредитования было отреставрировано здание с длинным названием — «Большая Померанцевая оранжерея», казарма второго Московского кадетского корпуса, Дом Военно-фельдшерской школы. Инвестор взял это здание, хотел разместить гостиницу (она бы там хорошо была), но на этой территории разрешено использование зданий только под медицинские цели, потому что это лечебный городок. Не знаю, удалось ли поменять ситуацию…
— У нас в восстановленных по программе домах может разместиться только бизнес, у них нет жилого назначения…
— Это очень, конечно, ограничивает перспективы программы. Боюсь, что это может быть миной замедленного действия, чтобы потом сказать: видите, ничего не работает.
И все же даже те программы и общественные инициативы, про которые мы поговорили, свидетельствуют о том, что постепенно отношение к наследию меняется, мы начинаем осознавать себя наследниками, не чужими. И вообще работа с наследием — будь то журналистика, инвестирование или просто туризм — дает удивительные эффекты. Многие архитекторы говорят о том, что заказчики, поработав хоть раз с историческими зданиями, пройдя все трудности и опасности, впоследствии хотят работать только с историческими зданиями. Им интересно преображать пространство, быть источником изменений. Это действует магически и это очень приятно просто по-человечески!
Самарские коллеги рассказывали о том, как один из предпринимателей приобрел старинный дом в границах исторического поселения — с расчетом его то ли снести, то ли сильно осовременить и надстроить. Всеми мерами ему не дали этого сделать. Тогда он решил провести реставрацию, но проект опять-таки дезавуировал его изначальные намерения. Снова его остановили. Уж не знаю, что там было «в промежутке» между событиями, но в результате предприниматель дом отреставрировал и... сам стал в нем жить! И ему это очень понравилось. И что-то мне подсказывает, вряд ли он захочет и допустит небоскреб у себя под окном.
В Томске продолжительная историческая среда — небольшие дома в центре города, которые могут быть наполнены не только бизнесом (иначе после шести вечера улицы будут вымирать), но и жильем, и культурными институциями. Когда среда многослойна — жизнь кипит все время, а не только днем или наоборот вечером. Чем среда разнообразнее, тем она экономически более развита, потому что есть вариант под любой запрос — для жилья, для ночного клуба, для кофейни, коворкинга, бизнес-центра и прочее. А когда у тебя стоит стеклянная коробка, где вечером гаснет свет, там ничего не происходит.
— Раз мы уже заговорили про Томск, вы впервые в нашем городе?
— В Томске я была дня полтора в 2006 году. Как раз тогда уже начинали гореть и разрушаться деревянные здания. Ситуация была, конечно, не очень приятная. (Об этом можно прочитать в нашем материале: Город в огне. Как в «нулевые» общественники спасли деревянный Томск от пожаров — прим. авт.).
Сейчас с точки зрения туристической наполненности все стало гораздо интереснее. Многие турфирмы возят группы в Томск, побывать в вашем городе стало уже такое must see. И все знают, что здесь основная идентичность территории — это деревянное зодчество, плюс уникальная университетская история и музеи. Инфраструктура достаточно хорошо развита: много хороших гостиниц, прекрасные рестораны.
Но есть куда развиваться: Томск совершенно не использует свои водные артерии. Главное богатство города — это его реки, самый редкий ресурс. У вас есть Томь и Ушайка, но их город «не видит», они абсолютно выключены из его жизни.
У Ушайки, я так поняла, вообще нет никакой пешеходной зоны, пройти там невозможно. Только когда едешь мимо на такси, тогда и смотришь — что-то там в деревьях такое деревянненькое стоит… Вот туда бы тех архитекторов, кто очень хочет благоустраивать, это же огромный рекреационный потенциал. Томь, конечно, видно. Я как турист прогулялась по набережной: ты идешь по ставшей модернистской площади (пл. Ленина — прим. авт.), упираешься в Ушайку, обходишь ее, а дальше... идти в общем-то некуда.

Опасения вызывает, конечно, еще и новое высотное строительство, которое искажает и скрывает реальный террасный рельеф, который прекрасно виден на старинных фотографиях.
Но надеюсь, что Томск примет к сведению позитивный опыт других городов, а возможно, найдет и свои уникальные решения. Но надо понимать, что историческое наследие — истончаемый и не возобновляемый ресурс, рано или поздно исторический город проходит точку невозврата. Самое обидное, что для этого не обязательно даже снести всю историческую улицу, достаточно через дом снести, и всё — это будет утрата, потому что уже не будет среды и вида.
— Какие впечатления у вас оставила о себе томская деревянная архитектура? Успели прогуляться по историческим районам?
— Я живу в отеле «Абажуръ», который является прекрасным примером приспособления памятника архитектуры. Он находится на улице Дзержинского. Там я с удовольствием прошлась, буквально «наткнувшись» на проект «Томск заходит» с наличниками, где вместо стекол — планшеты с биографией домов. Это очень удобно, полезно и познавательно — и для жителей, и для туристов.
Пока я читала один из стендов, ко мне вдруг подошел мужчина — видимо — дворник, который спросил: «Ну что, вам интересно?». Я говорю: «Ну, конечно, у вас такие в городе красивые дома». А он: «Ну вот, раньше-то господа тут жили, а теперь шелупонь какая-то. Вот если бы господа эти увидели, в каком состоянии сейчас их дома, у них бы приступ сердечный произошёл. Это же надо так запустить всё!». Вот мнение городского жителя, объективное. Рядовые люди прекрасно всё понимают, знают, что представляет реальную ценность, и у них предпочтение однозначное.
— Среди жителей, конечно, разные бывают мнения. Некоторые говорят: «Давайте всё восстановим, мы хотим жить в деревянных домах!». А кто-то считает, что «деревяшки» портят вид города. Как людям прийти к компромиссу в такой ситуации?
— Я думаю, что те, кому не хочется восстанавливать, могут благополучно переехать в другое современное место. Почему если тебе что-то не нравится, ты уже ненавидишь этот дом, район, тебе хочется широты, высоты, ты не переезжаешь в другой современный квартал, который тебе подходит? Если мы снесем все эти дома, восстановить историю будет уже невозможно, эта подлинность уйдет навсегда. А построить можно в любом другом месте.
— Насколько эффективно, на ваш взгляд, работает в Томске градозащитное сообщество?
— Сложно оценить результаты градозащитной деятельности, потому что обычно эффект отложен во времени. Но про Томск мы совершенно четко можем сказать, что город стал историческим поселением, были приняты его границы, зоны охраны и регламенты благодаря Всероссийскому обществу охраны памятников истории культуры и заседанию Президентского совета по культуре. И инициатива дошла до этого, в том числе, благодаря вашим градозащитникам.
Градозащитников всегда, конечно, немного, зачастую они подвергаются серьезному давлению, особенно если трудятся в бюджетном учреждении. Но, мне кажется, в Томске есть диалог, причем на уровне профессионального сообщества. На конференции в ТГСУ были представители и застройщиков, и архитекторов, и ученых. Круг ограничен, все друг друга знают. И это уже хорошо, потому что в некоторых местах диалога нет вообще.
— Как вы считаете, зачем вообще сохранять исторический город и архитектуру?
— Наверное, надо различать уровень личностного отношения и уровень всего городского сообщества. В красивом городе, который сомасштабен человеку, городе, по которому я иду и знаю его историю, где была и будет после меня жизнь — лично мне комфортно. Неизменные исторические улицы дают ощущение преемственности, а главное — стабильности и надежности, что важно для эмоционального состояния человека.
С другой стороны, как говорил, по-моему, Вячеслав Глазычев: город — это место, где есть площадь и где есть самоуправляемое сообщество горожан, которое может собраться на площади. А самоуправляемое сообщество возникает вокруг чего-то и должно базироваться на чём-то. Историческая архитектура может быть частью основы: она идёт из века в век, отражает процессы нашего роста и является такой рамкой для формирования сообщества горожан.
И тут важно подчеркнуть, что именно историческая архитектура, её многослойность, многообразие — это залог устойчивости и долгосрочности. Уже посчитано экономически, что здания исторического города, даже более экономически выгодны и маневренны в эксплуатации, чем районы жилых высоток. Не говоря уже о климатической, экологической устойчивости: как потом будут сносить эти небоскребы, это же всё требует переработки. Гостиница «Россия», например, снесенная на Варварке в Москве, до сих пор лежит на свалке, её так и не утилизировали.
А если все же вернуться к душевному аспекту темы, то люди защищают и сохраняют то, что любят и что им дорого. Невозможно любить то, чего ты просто не знаешь. Поэтому важно заниматься просветительством, рассказывать людям о городе, ценной архитектуре и их собственной истории.
Текст: Алёна Попова
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».















