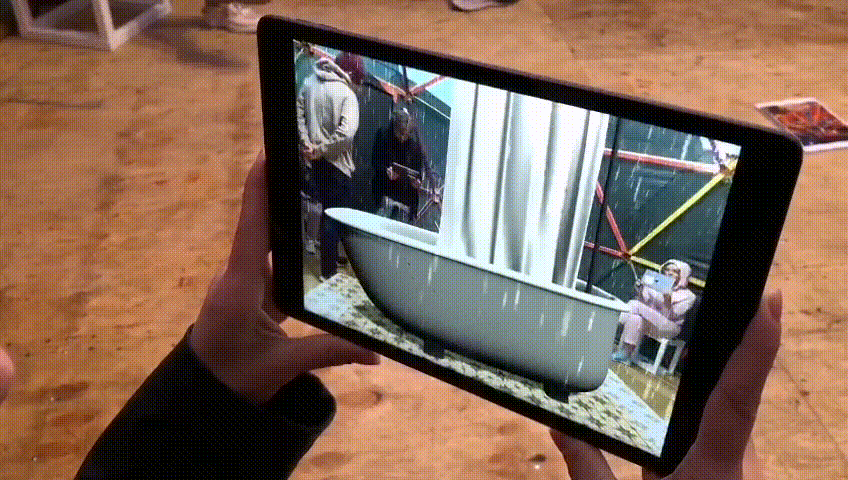
7×7: спектакль с дополненной реальностью готовят в Томском краеведческом музее
Кибер-театр, проект Томского областного краеведческого музея, выходит на финишную прямую. Премьера спектакля с дополненной реальностью «7×7» состоится через неделю, 24 мая.
Среди безумных хлопот, неизбежных при выпуске спектакля, мы поговорили с режиссером Дмитрием Гомзяковым и художником Михаилом Заикановым о том, каково это — быть одними из первопроходцев в театре с технологиями AR (augmented reality, AR — дополненная реальность — прим.ред.).
Что есть память

Проект «Музейный кибертеатр «7×7», объединяющий искусство и современные цифровые технологии, придумала художник краеведческого музея Алена Шафер. Воплощать смелый неординарный замысел в жизнь она позвала Дмитрия Гомзякова (режиссера спектаклей Томского ТЮЗа «Чайка», «Март», «Портрет», «Дальше»), Михаила Заиканова (московского художника, номинанта национальной премии «Золотая Маска» 2020 года) и томскую IT-компанию Rubius. Продолжил формирование творческой команды уже Дмитрий Гомзяков — он увлек проектом московского драматурга Светлану Петрийчук (ее пьесы побеждали и попадали в шорт-листы главных российских драматургических фестивалей), саунд-дизайнера Антона Телешева и артистов Томского ТЮЗа. Выбирать документальный материал для пьес помогала Татьяна Назаренко, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела ТОКМ.
Главной темой постановки с дополненной реальностью стала память. Реальные истории о прошлом искали на сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные». Собственно, кибер-театр — одно из новых событий этого масштабного проекта.
— Для чего нам память, что она сегодня собой представляет — это меня и зацепило, — рассказывает Дмитрий Гомзяков. — Мне, как режиссеру, всегда интересны не пьесы сами по себе, а работа с определенными темами. Хотелось максимально раскрыть идею памяти. Вместе со Светланой и Татьяной мы выбрали материал, Светлана с ним поработала, так появилось семь пьес, которые мне нравятся. И по отдельности, и все вместе.

Михаила Заиканов тоже в первую очередь заинтересовала тема проекта:
— Дело было года полтора назад, я выпускал спектакль в Новосибирске. Тогда мне и позвонила Алена Шафер, мы еще не были знакомы, — вспоминает Михаил. — Она рассказала, что есть задумка музейного проекта про память. Слова «в музее про память» мне очень понравились — мне близка такая тема, у меня уже были спектакли, связанные с ней. Память может быть и универсальной, и личной. Наш спектакль связан с проектом «Сибиряки вольные и невольные». Я не сибиряк, казалось бы, мне об этом нечего сказать. Но есть универсальная память — наши предки переживали одни и те же исторические события. Кого-то они задевали и ранили больше, кого-то меньше. Но работа с ХХ веком, с его проблемными точками мне интересна. Я согласился участвовать в проекте, но потом начался карантин, сроки переносились… И вот я здесь! Познакомились с Димой лично, только на прошлой неделе, когда я прилетел в Томск. До этого обсуждали спектакль в телеграме и зуме.
Пока спектакль существовал только «в головах» творческой группы, все шло своим чередом. Но столкновение с реальностью оказалось действительно суровым:
— Миша еще не приехал в Томск, когда у нас прошла первая встреча с «Рубиусом». Они принесли планшеты, и я сразу понял: что «работало» в мыслях, в реальность не воплотить, — рассказывает Дмитрий. — Полный крах! Я сразу позвонил Мише, сказал: «Все, что мы придумывали, это полная ерунда».
— Все может прекрасно смотреться в голове, а когда ты оказываешься в реальном шатре, где будет идти спектакль, то понимаешь, что ограничен пространством, — продолжает Михаил. — И у AR тоже есть свои особенности. К примеру, мы хотели, чтобы зрители во время показа ходили с планшетами, но технологии этого пока не позволяют. Люди будут сидеть в определенных точках. Некоторые идеи, которые возникали изначально, постепенно эволюционировали в то, что у нас получилось в итоге.
Первый опыт AR

Каково это, использовать в постановке технологию дополненной реальности? Дмитрий Гомзяков признается, что быть режиссером подобного спектакля — работа очень специфическая:
— Странный интересный процесс. Репетировать тебе нечего, надо все придумать, и чтобы все работало. Сидишь, ждешь, когда ребята что-то сделают, нервничаешь, что ты, режиссер, ничего не можешь проконтролировать… Раз в час хожу посмотреть, что у ребят получается.
— А я, пока Дима нервничает, сижу и осваиваю программирование… — продолжат Михаил.
Хотя нервно и непривычно, зато можно чувствовать себя в числе первопроходцев:
— Челлендж в том, что это нечто абсолютно новое, — полагает Дмитрий. — Можно по-разному относиться к Виктору Вилисову, но считаю, он прав, что плотно продвигает AR в театр. У AR большие возможности, и технология постоянно развивается. Мы — одни из первооткрывателей, и развиваемся вместе с этой технологией.
— И для меня, и для Димы это первый опыт работы с AR, — добавляет Михаил. Год назад у Вилисова вышел курс по этой технологии. Можно было освоить азы, но возможности их применить не было. Государственные театры к такому не готовы. В подобных спектаклях все завязано на технологии, а в театре важен артист.

Правда, Дмитрий уточняет, что для многих региональных театров AR — слишком дорогое удовольствие, поскольку требует специальной техники.
Что дает возможность дополнять реальность? Михаил Заиканов всегда много работает с цифровыми технологиями — с видеопроекциями, инсталляциями, мультимедиа.
— Обычно такие решения требуют времени, AR в плане производства еще медленнее. У тебя появилась мысль, потом надо сделать 3D модель, поставить ее в нужное пространство под нужным углом, закачать на телефон, проверить, правильно ли она располагается… — объясняет Михаил. — Чем больше объектов, тем сложнее. Как обычно устроен процесс в театре: я что-то придумываю и делаю, а видеоинженер нажимает на кнопки и помогает мне, он — посредник между мной и технологией. И это человек, погруженный в театральный процесс. В томском проекте мы работаем с программистами (компания Rubius - прим.ред.), они классные, открытые ребята, нам с ними очень повезло, но они не знакомы с театральным процессом. Мы ищем общий язык. в этом смысле есть некоторые сложности. Это если говорить про техническую сторону AR. А в творческом плане свои особенности. Плюсы в том, что в театре тебе чаще всего надо что-то построить — декорацию, в ее основе конструкция. Нужен чертеж, цеха, которые ее сделают. Хорошо, если у них получится то, что нужно… Это большой технологический процесс. В AR ты можешь сделать модель и скачать ее, это все намного упрощает. Правда, чтобы сделать крутую модель, тебе нужно немало времени.

С помощью AR легко устроить снегопад или ливень, что на сцене требует больших затрат. А еще именно эта технология прекрасно подходит для работы с темой памяти:
— Мы не изменяем пространство, мы именно дополняем его. Это круто работает на саму идею памяти — как наши воспоминания дополняют реальность, — говорит Дмитрий.
«Нетрадиционный» спектакль

Что художник делает в спектакле с AR, как выглядит весь процесс? Где что будет расположено и как будет выглядеть, режиссер и художник, как и в более «традиционных» спектаклях, обсуждают вместе. Затем начинается сотрудничество с программистами:
— Я отрисовываю то, что нужно, а они загружают в дополненную реальность, масштабируют. Впрочем, иногда уже я сам этим занимаюсь, — говорит Михаил. — Правда, есть еще одна большая техническая сложность. Когда слышишь «3D», «дополненная реальность», то сразу думаешь про Голливуд, огромные возможности. К сожалению, пока технологически размер загруженного файла не может превышать 100 МБ. Объект состоит из элементов, которые не должны быть тяжелыми и сделанными из большого количества частей. В кино другая технология, а здесь происходит рендер (визуализация), планшет не может тянуть более мощный объем.

Впрочем, Дмитрий полагает, что такие сложности — вопрос времени, и через пару лет они станут неактуальными.
Михаил вспоминает пример из своего опыта:
— Лет 10 назад я выпускал спектакль, завязанный на технологии «кеинг» (когда человек стоит на зеленом фоне, который сменятся на другие изображения — прим. авт.). Сегодня этим никого не удивить, а 10 лет назад это была новая технология, для нее надо было использовать дикое количество технических штуковин. Одну коробочку нельзя было задевать, а перед самой премьерой один артист наступил на нее, спектакль задержали на 20 минут… Кажется, на том выпуске я поседел. В Томске у меня есть ощущение, что я тоже поседею. Всегда необходимо время, чтобы разобраться с новой технологией. Сейчас это делается в один клик. С AR связаны похожие ощущения. Для себя я открываю новые горизонты и понимаю, что мы идём по проторенной дороге. С одной стороны, проторенная дорога работы художника и медиахудожника как в театре здесь не может работать. У тебя нет заданного пространства, ты создаешь его сам.
Истории для медитаций

В основе пьес нового проекта — реальные истории, связанные с определенными событиями, но авторы спектакля подчеркивают: речь идет не о вербатиме. Главное здесь не факты и события, а исследование памяти, которая уникальна. Именно о ней и думают те, кто сочиняет спектакль.
— Мне нравится такое понятие, как медитация, — рассказывает Михил. — Когда в спектакле ты слушаешь историю (она звучит в наушниках), у тебя возникают свои собственные ассоциации. Мне хочется, чтобы человек, который смотрит «7×7», не концентрировался на каком-то наборе образов, чтобы он слушал текст, смотрел на пространство вокруг и медитировал в очень широком смысле. Думаю, это работает тоньше, чем если мы будем говорить о войне и ее показывать. У нас не иллюстративный ход, а ассоциативный. И есть желание, чтобы человек, попав в шатер на спектакль, расслабился, послушал бы историю, принял ее в себя, задумался бы.
— Это моя любимая партиципаторность, — добавляет Дмитрий. — Мы не заставляем подключаться к каждой истории, ни на чем не настаиваем, но к тем, что сработают, можно «присоединиться».
Текст: Мария Симонова
Фото: Серафима Кузина
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».